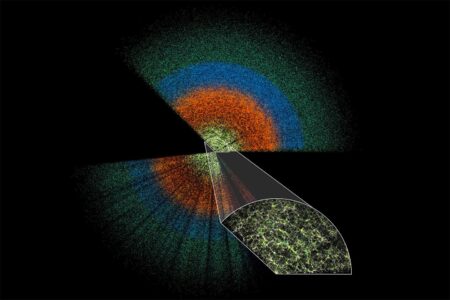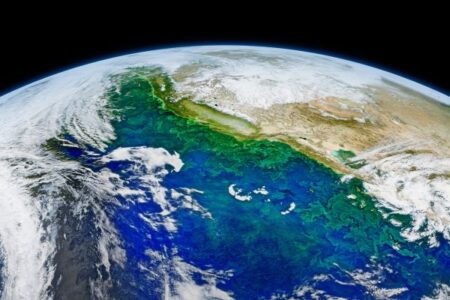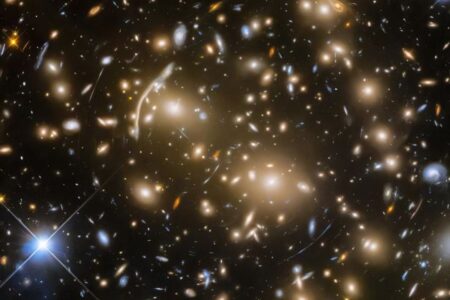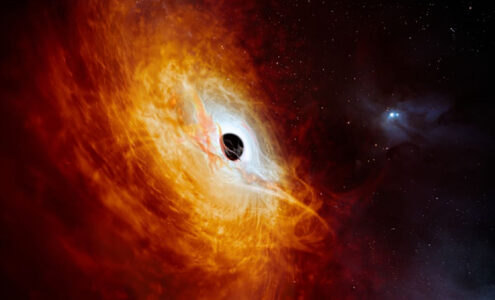Лица МЧС: Салават Мингалеев
В послужном списке Салавата Мингалеева более 25 орденов и медалей за участие в крупномасштабных спасательных операциях на территории России и за рубежом. Спасатель международного класса, заслуженный спасатель Российской Федерации, трудоголик с открытым сердцем и широкой душой. О таких говорят: «Всегда первый, всегда впереди».
— Не буду этого отрицать или соглашаться — не мне судить, — улыбаясь говорит Салават Галимджанович, — такую оценку может дать руководитель, наставник. Мне же всегда кажется, будто я что-то не доделал. Можно было лучше или по-другому. Если человек не будет анализировать свои поступки, то он потеряет ценность сам для себя. У самураев это называется «потерять лицо».
— К слову о самураях. В одном из источников сказано, что Вы преподавали восточные единоборства.
— Это просто хорошая традиция Рязанского воздушно-десантного училища, которое я закончил в 1977 году. Старшие курсы брали шефство над младшими. Сначала учился я, а на втором-третьем курсе у меня появились свои ученики. Мы занимались боевыми искусствами – самбо, бокс, киокушинкай, шотокан. Все свободное время я проводил в зале рукопашного боя. Праздники, выходные, даже Новый год там однажды встретил.
Мои ученики, хотя они всего на пару лет младше, до сих пор называют меня «сенсеем». Однако, больших высот в единоборствах я не достиг, потому что сразу после училища пошел в армию — служение Родине и занятие профессиональным спортом совместить крайне трудно. Приходится выбирать.
— Как вы определились с выбором профессии?
— До Суворовского училища у меня появилась мечта – стать пограничником. Отец служил 3 года в погранвойсках, и моя любовь к лесу, оружию, собакам слились в одну специальность. Но потом мне попалась информация про воздушно-десантные войска. И на первом курсе училища появилась цель — ВДВ.
— Что подтолкнуло Вас поменять решение?
— Вы просто не представляете, что такое ВДВ. Это — дух неба, это — прыжки, боевое братство. Я до сих пор вспоминаю с трепетом свою службу в Каунасской дивизии, потом — в Витебской, службу в Афганистане. У каждого мужчины есть слабость. Моя слабость – это воздушно-десантные войска.
— Расскажите, как Вы пришли в ЦСООР «Лидер»?
— После службы в Афганистане у меня начал садиться слух. Для воздушно-десантных войск, оперативной командной работы я стал непригоден. Для меня это стало маленькой трагедией. Так как перспективы дальнейшей службы не было, мне предложили уйти в штаб войск гражданской обороны, в оперативно-мобилизационное управление. Там я прослужил два года, а когда в 1994 году образовался «Лидер» мне в числе первых шести человек предложили работу. Тогда еще «Лидер» приравнивался к спецназу, но по сравнению со службой в штабе ГО РФ и в воинской части я сделал десять шагов назад в своей карьере.
— Какая спасательная операция кажется Вам самой серьезной, запоминающейся?
— Нефтегорск. В первые дни после землетрясения мы пытались работать без сна, по 24 часа. Потом начали «ломаться», перешли на 12 часов – ночная и дневная смена. Перенимали опыт у спасателей Дальнего Востока, Сибири, Центроспаса. Это была настоящая школа.
Я участвовал в спасении трехлетнего мальчика Сережи. Он больше 3-х дней пролежал под развалинами, и когда мы его обнаружили, возникло чувство тревоги — нужно было сделать все очень аккуратно, чтобы не навредить человеку. Мы объединились с Центроспасом, посоветовались и достали ребенка.
— А если сравнивать «Лидер» тогда и сейчас, есть разница?
— Понимаете, каждое определенное время требует своих героев. В те годы была война в Чечне, различные конфликты, мощные гуманитарные операции, для участие в которых находились люди. Приходит другое время, и оно требует своих профессионалов, новых героев. «Лидер» всегда был и остается одним из лучших подразделений для проведения специальных работ и спасательных операций особого риска.
— Со стороны всегда кажется, что спасатели ничего не боятся. Или всё же бывали случаи, когда Вам становилось страшно?
— Как вам сказать…Страшно было в Беслане, когда людей на смерть посылали…Валера Замараев, Дима Кормилин. Страшно терять людей, особенно таких прекрасных профессионалов, грамотных специалистов.
За время службы в министерстве я потерял троих человек. Один из них — Глеб Коротыгин. Погиб на моих руках. В 2002 году в Ставропольском крае было сильное наводнение. Мы находились в станице Барсуковской, там сорвало плотину и шел сель. Уровень воды поднялся на пять метров. Местные жители забирались на крыши домов, деревьев. Был отдан приказ пересечь грязевой поток и эвакуировать оставшихся. Мне ничего не оставалось делать, как послать своих подчиненных выполнять задание. Лодка, в которой находился Глеб перевернулась. В его легкие моментально попала взвесь песка, и он задохнулся. Это — беспомощность в спасении. Тогда было по-настоящему страшно. И теперь мне это снится по ночам. Потерять своего лучшего подчиненного — как для отца пережить своих детей. Страшнее ничего не может быть, но я не мог не подчиниться приказу.
— Есть ли традиции у спасателей?
— Во-первых, спасатель не должен с места спасения что-либо брать. Ни сувенир, ни помощь от местного населения. Я, будучи начальником отряда Центроспас, уволил спасателя, который взял воду у бабушки. Он должен был сам поить людей, которые находились в зоне ЧС. У нашей спасательной службы есть еще одна традиция: пока хоть один живой человек есть в зоне чрезвычайной ситуации – работать круглосуточно.
— Что Вы могли бы посоветовать начинающим спасателям?
— Если ты выбрал такую профессию, то должен полностью отдаться делу. Профессионализм превыше всего, и над этим стоит работать всю жизнь. Это как подъем в гору — если остановился, можно упасть вниз. Нужно всю жизнь себя совершенствовать. И в профессиональном, и в духовном, и в физическом плане. Например, я каждый день начинаю с пробежки и силовых занятий, потом обязательно плаваю в бассейне. В прошлом году сдал норму ГТО для 35-летнего мужчины.
К тому же я коллекционирую электронные книги. У меня их более 700 тысяч. И это тоже работа над собой, потому что мы живем в век информационных технологий. Кто владеет информацией — владеет знаниями.
Главное — все делать самому, не из-под палки. Нет таких задач, которые человек не смог бы выполнить. Если он что-то захочет, он всегда сможет добиться результата, но отдать придется многое. Поэтому целеполагание здесь бывает достаточно сложным.